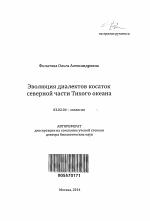Бесплатный автореферат и диссертация по биологии на тему
Эволюция диалектов косаток северной части Тихого океана
ВАК РФ 03.02.04, Зоология
Автореферат диссертации по теме "Эволюция диалектов косаток северной части Тихого океана"
/а, /
на правах рукописи
Филатова Ольга Александровна
Эволюция диалектов косаток северной части Тихого океана
03.02.04 - зоология
АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени доктора биологических наук
005570171
Москва, 2014
005570171
Работа выполнена на кафедре зоологии позвоночных биологического факультета Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова
Научный консультант доктор биологических наук Е.П. Крученкова
Официальные оппоненты:
доктор биологических наук В.М. Белькович
Институт Океанологии им. П.П.Ширшова РАН доктор биологических наук Ж.И. Резникова
Новосибирский государственный университет доктор биологических наук С.В. Попов
ГУК «Московский зоологический парк»
Ведущая организация:
Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова РАН
Защита диссертации состоится 7 апреля 2014 г. в 15.30 на заседании диссертационного совета Д 501.001.20 в Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова по адресу: 119991, Москва, Ленинские горы, Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, д.1, стр. 12, биологический факультет ауд. М-1. Факс: 8(495) 939-43-09, e-mail: ira-soldatova@mail.ru
С диссертацией можно ознакомиться в Фундаментальной библиотеке МГУ имени М.В.Ломоносова.
Автореферат разослан 7 марта 2014 года.
Ученый секретарь диссертационного совета
кандидат биол. наук
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. Эволюция влияет на все аспекты жизнедеятельности организмов. Помимо биологической эволюции, сформировавшей облик всего живого на Земле, у высокоорганизованных животных известна также культурная эволюция признаков, передающихся путем социального обучения. Необходимым условием культурной эволюции является способность животных обучаться сложным поведенческим навыкам. Такие способности были обнаружены и активно изучаются у человекообразных обезьян. В то же время некоторые исследователи указывают на наличие культурных традиций у китообразных, многие виды которых не уступают человекообразным обезьянам по уровню психического и социального развития. Поскольку способность к передаче культурных традиций у китообразных и приматов возникла независимо, сравнение механизмов культурной эволюции у двух этих групп позволит выявить и описать общие принципы культурной эволюции в целом.
У косаток описаны два основных типа культурных традиций - охотничьи и вокальные. Охотничьи культурные традиции, в частности, служат основой для разделения косаток на репродуктивно изолированные экотипы. Специализация на разных объектах питания приводит к различиям в образе жизни, поведении и морфологии. Таким образом, культурные традиции влекут за собой изменения в генетически наследуемых признаках. Репродуктивная изоляция между экотипами достигается благодаря различиям в вокальных культурных традициях (диалектах). Вокальные диалекты используются для идентификации групп с разной степенью родства — от семей до популяций и экотипов. Исследование вокальных диалектов, таким образом, является ключом для понимания механизмов, позволяющих косаткам формировать сложную многоуровневую популяционную и социальную структуру, не имеющую аналогов среди других млекопитающих, за исключением человека. Однако механизмы культурной эволюции криков косаток, которые могли бы обеспечить необходимые для решения этой задачи уровни изменчивости, до сих пор оставались неизученными. Цель и задачи исследования
Цель работы - описание структуры, функций и механизмов эволюции
диалектов косаток северной части Тихого океана.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
• разработать методику категоризации и создать иерархическую многоуровневую систему классификации криков рыбоядных косаток;
• описать диалекты косаток различных популяций северной части Тихого океана в соответствии с этой классификацией, выявить общие черты и различия между популяциями;
• выявить коммуникативные функции основных классов криков рыбоядных косаток;
• проанализировать сходства и различия диалектов на меж- и внутрисемейном уровне;
• обобщив полученные результаты, выявить основные принципы эволюции диалектов косаток.
Научная новизна
Впервые детально проанализировано сходство и различие криков косаток на меж- и внутрипопуляционном, а также на меж- и внутрисемейном уровне, что позволило выявить не описанные ранее закономерности культурной эволюции диалектов.
С использованием новейших методик категоризации акустических сигналов создана структурная иерархическая классификация криков косаток, сформировавшая основу для межпопуляционных сравнений. Впервые проведено сравнение криков косаток из разных популяций северной части Тихого океана, показано отсутствие корреляции между сходством криков и географическим расстоянием между популяциями, отмечена корреляция между разнообразием криков и числом особей в популяции. Анализ использования различных структурных категорий криков косаток в зависимости от поведенческого и социального контекста и эксперименты по проигрыванию криков позволили выявить их функциональное значение. Исследована применимость концепции равномерной случайной эволюции к диалектам косаток и показано, что разнообразие криков на внутрисемейном уровне не может быть интерпретировано в рамках этой концепции. Практическое значение
Впервые подробно описаны диалекты косаток камчатского региона, что может быть в дальнейшем использовано для пассивного акустического мониторинга. Показано, что сходство диалектов не может быть использовано как прямая мера родства между племенами и популяциями косаток. Апробация работы
Основные положения диссертации обсуждались на заседаниях кафедры зоологии позвоночных МГУ, на Четвертом Международном Симпозиуме по Косатке (4th International Orea Symposium, Workshop, Chize, France, 2002), на
Международных Конференциях "Морские Млекопитающие Голарктики" (2002 г. - п.Листвянка, Байкал, 2004 г. - Коктебель, Украина, 2006 г. - Санкт-Петербург, 2008 г. - Одесса, Украина, 2010 г. - Калининград, 2012 г. -Суздаль), на международной конференции "Териофауна России и сопредельных территорий" (2003 и 2007 гг., Москва), на конференциях по поведению и поведенческой экологии (2005 г. - Черноголовка, 2007 г. -Москва, 2009 г. - Черноголовка, 2012 г. - Москва), на конференциях Общества по Морским Млекопитающим (Biennual Conferences of the Society of Marine Mammalogy, 2003 - Greensboro, USA, 2005 - San Diego, USA, 2007 - Cape Town, South Africa, 2009 - Quebec, Canada, 2011 - Tampa, USA), на ежегодных конференциях Европейского общества по изучению китообразных (European Cetacean Society conferences 2006-2013), на конференции по изучению эволюции языков человека (Evolang 2010, Utrecht, Netherlands), на конференции по изучению принципов эволюции (Evolutionary Patterns 2013, Lisbon, Portugal), на семинарах группы по изучению морских млекопитающих университета Ст. Эндрюс в 2013 г. (Sea Mammal Research Unit, St. Andrews, UK).
Публикация результатов исследований
По теме диссертации опубликовано 19 статей в рецензируемых журналах и 2 книги, а также более 20 тезисов конференций. Структура и объем работы
Диссертация состоит из введения, 8 глав, приложений и списка литературы. Текст изложен на 320 страницах и содержит 108 рисунков и 25 таблиц. Список литературы включает 206 названий.
Благодарности
Прежде всего мне хотелось бы выразить огромную благодарность Е.П. Крученковой и М.Е. Гольцману, а также И.А. Володину за то, что они вдохновляли мою работу и создавали доброжелательную и конструктивную атмосферу. Эта работа не состоялась бы без руководителей Дальневосточного проекта по косатке A.M. Бурдина и Э. Хойта, которым я также выражаю глубокую благодарность. Большое спасибо И.Д. Федутину, который сыграл ключевую роль в проведении экспедиций и техническом обеспечении исследований, а также оказал неоценимую помощь при анализе материала. Хочу также поблагодарить всех участников наших экспедиций, в особенности Т.В. Ивкович, Е.М. Лазареву, М.М. Нагайлика, А.Е. Волкова, М.А. Гузеева, Е.А. Борисову. Отдельное спасибо М.А. Гузееву за разработку скрипта для выделения контуров звуков. В. Дике любезно предоставил скрипт для
5
сравнения контуров методом динамического временного шкалирования и адаптивно-резонансной нейронной сети. Спасибо Э. Рахимбердиеву за помощь в статистической обработке данных. Хочу выразить глубокую благодарность JI. Барретт-Леннарду, благодаря которому состоялась моя поездка в Ванкувер, а также Дж. Форду, X. Юрку и К. Маткину за продуктивное сотрудничество во время и после этой поездки и за предоставленные записи канадских и аляскинских косаток. Я благодарю коллектив лаборатории поведения животных, в особенности Е.П. Крученкову, М.Е. Гольцмана, И.А. Володина и H.A. Формозова за плодотворные дискуссии при обсуждении доклада по материалам работы, а также всех своих коллег по кафедре зоологии позвоночных Биологического факультета МГУ и руководство кафедры за доверие и предоставленную мне возможность выполнить эту работу. Работа была выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты № 08-04-00198-а и 11-04-00460-а), Общества охраны китов и дельфинов (Whale and Dolphin Conservation) и фонда малых грантов Руффорда (Rufford Small Grants).
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Введение
Во введении обосновывается актуальность работы, формулируются цели и задачи исследования.
Глава 1. Феномен культурной эволюции
Существует два способа передачи фенетических признаков от родителей к потомству - генетический (посредством кодирования наследственной информации в ДНК) и не-генетический (любым другим путем). Типичный пример негенетической передачи фенетических признаков - наследование бактериальной микрофлоры кишечника.
Подход к поведению животных как к реальному фенетическому признаку сформировался в середине 20 века благодаря работам Н. Тинбергена и К. Лоренца, положившим начало этологии - дисциплине, изучающей инстинктивное, то есть генетически наследуемое, поведение животных. Поведение, передающееся негенетическим путем, а именно посредством социального обучения, начало привлекать серьезное внимание исследователей значительно позднее - во второй половине 20 века.
Термин «социальное обучение» объединяет ситуации, когда поведение, продукты поведения или присутствие одной особи оказывают влияние на обучение другой (Heyes, 1994). Социальное обучение и основанные на нем
традиции широко распространены среди самых разных таксономических групп. Одним из наиболее часто цитируемых примеров культурных традиций у животных является работа Уайтена с соавт. (Whiten et al., 1999) по описанию различных поведенческих паттернов в сообществах шимпанзе. Авторы обнаружили, что среди 65 исследованных категорий поведения 39 (включая разные виды груминга, использование орудий и способы ухаживания) было обнаружено в одних сообществах, но отсутствовало в других, причем это нельзя было объяснить экологическими факторами и другими различиями в условиях обитания. Эта работа показала, что культурные традиции могут существовать не только у человека, и, по-видимому, способность создавать и передавать культуру зародилась в линии гоминид задолго до появления Homo sapiens.
Многие виды китообразных обладают развитыми когнитивными способностями и сложной социальной структурой. Эти особенности считаются хорошими предпосылками для возникновения культурных традиций у животных (Roper, 1986). В то же время образ жизни китообразных делает их трудными объектами для поведенческих наблюдений, что ограничивает возможности изучения культурных традиций. Наиболее сложно организованную культурную традицию у косаток представляет система вокальных диалектов, описанная у рыбоядных популяций северной части Тихого океана (Ford, 1991; Yurk et al., 2002; Filatova et al., 2007). Каждая семья косаток имеет набор стереотипных криков — вокальный диалект (Ford, 1991). Предполагается, что система диалектов может играть важную роль в предотвращении инбридинга, что весьма актуально в небольших замкнутых популяциях косаток, обычно насчитывающих несколько сотен особей: было показано, что спаривания чаще происходят между особями с максимально отличающимися диалектами (Barrett-Lennard, 2000). В то же время между популяциями спаривания не происходит даже в тех случаях, если их ареал в значительной степени перекрывается (Barrett-Lennard, 2000); очевидно, основным изолирующим фактором в этом случае является различие в диалектах.
Одна из главных проблем при исследовании культурных традиций у животных состоит в трудности количественной оценки большинства форм поведения и сравнения их между особями, социальными группами и популяциями. Акустическое поведение в этом смысле составляет удачное исключение, поскольку звуки китообразных сравнительно легко записать, а структуру акустических сигналов можно измерить и количественно сравнить. Изучение акустического поведения китообразных, таким образом, является
7
важным ключом для прояснения вопроса о механизмах культурной эволюции в этой группе млекопитающих. Сравнение механизмов культурной эволюции у китообразных и других систематических групп позволит выявить и описать общие принципы культурной эволюции в целом.
Культурные традиции могут изменяться и развиваться со временем путем накопления ошибок, возникающих при обучении, и инноваций, изобретаемых носителями традиции, а также путем заимствования навыков из других традиций. В 70-80 гг. 20 века феномен культурной эволюции стал привлекать повышенное внимание биологов-теоретиков, которые попытались сформулировать теоретическую основу негенетической передачи культурных признаков (напр., Cavalli-Sforza, Feldman, 1981; Mundinger, 1980; Lumsden, Wilson, 1981; Boyd, Richerson, 1985). Важным результатом этого теоретического интереса стало осознание того факта, что между культурной и генетической эволюцией существует удивительное сходство, поскольку обе они движимы сходными механизмами: мутациями, дрейфом и отбором. Существенное отличие между культурной и генетической эволюцией - способ передачи информации между поколениями. Генетическая передача обычно очень точна и, как правило, строго вертикальна; напротив, культурная передача подвержена ошибкам и может быть как вертикальной, так и горизонтальной и диагональной (Cavalli-Sforza, Feldman, 1981). Существуют две основных гипотезы, описывающие изменение культурных традиций во времени: 1) разнообразие традиций - это результат нейтральных культурных процессов, аналогичных генетическому дрейфу и мутациям; 2) традиции развиваются под давлением отбора. Под культурным отбором понимают отбор паттернов поведения, передаваемых из поколения в поколение не генетически, а посредством социального обучения. Благодаря этому отсутствует неразрывная связь культурного признака с его носителем, которая неизбежна в случае генетически наследуемых признаков. Животное может выучивать новые традиции и отбрасывать старые, поэтому отбор идет на уровне самих признаков, а не их носителей. Например, способ добывания пищи у шимпанзе может смениться на другой, более адаптивный, путем инновации и заимствования нового способа теми же носителями традиции, которые использовали старый способ. Таким образом, отбор культурных признаков может идти без элиминации носителей этих признаков, в отличие от генетического отбора. Наличие отбора в культурной эволюции стабилизирует определенные формы поведения или ведет к направленным изменениям.
Высшей формой культурной эволюции считается кумулятивная культурная эволюция, формирующая особенно сложные поведенческие паттерны. Ключевая предпосылка возникновения кумулятивной культуры - высокая точность копирования при передаче между особями (Lewis, Laland, 2012). По этой причине кумулятивная культура довольно редка среди животных, так как достижение высокой точности копирования является дорогостоящей адаптацией и поддерживается отбором только в том случае, если дает какие-то существенные преимущества.
Диалекты косаток, несомненно, представляют собой пример кумулятивной культурной эволюции, поскольку многие крики косаток складываются из более простых элементов - слогов (Ford, 1991; Strager, 1995; Yurk et al., 2002; Shapiro et al., 2011). Однако каковы принципы изменения этих элементов и целых криков во времени, как происходит их передача из поколения в поколение, какие внутренние закономерности и внешние факторы определяют их эволюцию - все эти вопросы до недавнего времени были практически не изучены. Мы попытаемся ответить на них в данной работе. Чтобы сформировать основу для изучения механизмов культурной эволюции, необходимо сначала описать структуру исследуемого поведения и выявить единицы эволюции. Необходимо также исследовать функции данного поведения, чтобы оценить его адаптивность и, следовательно, возможность влияния направленного отбора. В этой работе мы описываем структуру и функции вокальных диалектов косаток северной части Тихого океана и анализируем возможные сценарии культурной эволюции на основе выявленных нами паттернов сходства и различия диалектов между разными социальными единицами от семей до популяций.
Глава 2. Методология и методика исследований
Подходы к изучению эволюции, как правило, имеют в своей основе сравнительные исследования временных рядов данных. Однако для диалектов косаток не существует записей за достаточно продолжительный период времени, поэтому основным методологическим подходом в нашей работе стал сравнительный анализ современных диалектов косаток между группировками разного уровня: семьями, племенами, кланами, популяциями и экотипами. Для анализа мы использовали записи косаток северной части Тихого океана, сделанные у восточного побережья Камчатки (2000-2012 гг.) и у западного побережья Северной Америки (1976-2010 гг.). Записи производили в природе от групп косаток, индивидуально различаемых с помощью метода фотоидентификации. При записи фиксировали тип активности особей в
9
группе. Вся собранная в море информация затем заносилась в базу данных Microsoft Access. Первичный анализ записей проводили с помощью программы AviSoft SASLab Pro. Мы просматривали все записи и сохраняли крики хорошего качества для дальнейшего анализа. Сопоставляя типы криков в записи с групповой принадлежностью присутствовавших при записи косаток, мы составили репертуары стереотипных криков для каждой группы камчатских косаток. Для сравнения физических характеристик криков мы выделяли полный контур основной частоты каждого крика со скважностью 0.01 секунды с помощью специального скрипта в среде программирования MATLAB. Сходство контуров криков оценивали методом динамического временного шкалирования. Категоризацию криков проводили тремя методами: по частотным параметрам, с использованием независимых наблюдателей и с помощью искусственных нейронных сетей. Анализ функционального значения криков косаток проводили с помощью генерализованных линейных моделей. Исследовали зависимость между появлением криков каждой категории и объясняющими переменными: типом активности, числом племен в агрегации и наличием смешанных групп. Статистический анализ проводили в программе R.
Глава 3. Вокальные культурные традиции в популяциях косаток северной
части Тихого океана
Прибрежные воды северной части Тихого океана населяют два экологических типа косаток: рыбоядный (т.н. «резидентный») и плотоядный («транзитный») (Bigg et al., 1990; Ford et al., 1994). Основной добычей рыбоядных косаток является рыба, плотоядные же охотятся преимущественно на морских млекопитающих, а также на морских птиц (Ford et al., 1998). Различия в объектах охоты влекут за собой различия в поведении, социальной структуре и морфологии.
Рыбоядные косатки живут в стабильных социальных группах, организация которых основана на родстве по материнской линии (Ford, 2002). Элементарная единица их социальной структуры представляет собой матрилинию, включающую в себя до четырех поколений потомков одной ныне живущей самки. Более крупная структурная единица - семья - состоит из одной или нескольких матрилиний, связанных тесным родством и, как правило, передвигающихся совместно. Как самки, так и самцы всю жизнь остаются в родной семье.
Группы плотоядных косаток, как правило, состоят из самки и одного или двух ее детенышей. Некоторые самцы и, реже, самки сохраняют прочную связь с
10
матерью и во взрослом состоянии. Другие самцы с возрастом уходят из группы и живут в одиночку, время от времени присоединяясь к группам, содержащим репродуктивных самок. Самки, разорвавшие связь с матерью, с рождением детеныша образуют свою собственную группу (Baird, Whitehead, 2000).
Рыбоядные и плотоядные косатки репродуктивно изолированы уже на протяжении сотен тысяч лет, несмотря на то, что они обитают в одних и тех же водах (Morin et al., 2010).
Косатка обладает обширным вокальным репертуаром. Коммуникативные звуки косаток традиционно делят на «крики» и «свисты» (Ford, 1984, 1989, 1991; Yurk et al. 2002). Как правило, свистами считают звуки с основной частотой выше 5 кГц, такого же критерия мы придерживаемся в данной работе. Подавляющее большинство акустических сигналов косаток представлено так называемыми «стереотипными криками» (Ford, 1984) -звуками с четкой стереотипной структурой. Репертуар популяции может включать несколько десятков типов стереотипных криков. Однако косатки также нередко используют так называемые «вариабельные» крики, не разделяемые на четкие категории, и «аберрантные», то есть сильно видоизмененные, варианты стереотипных криков (Ford, 1984). Каждая семья рыбоядных косаток имеет специфический репертуар стереотипных криков - диалект. У родственных семей, не так давно произошедших от общей предковой семьи, диалекты практически одинаковые. Такие семьи относят к одному племени. Семьи с разными, но все же имеющими общие черты диалектами относят к разным племенам одного клана. Некоторые типы криков могут быть сходными у нескольких семей, другие характерны лишь для одной группы. Форд (Ford, 1991) предполагал прямую зависимость сходства диалектов от родства семей: чем ближе родство, то есть чем меньше времени прошло с момента их отделения от общей предковой семьи, тем больше у них общих типов криков и, следовательно, выше сходство диалектов. Семьи с совсем несхожими диалектами относят к разным кланам (Ford, 1991).
Диалект передается из поколения в поколение не генетически, а посредством обучения. Об этом свидетельствует в первую очередь тот факт, что детеныши наследуют репертуар только материнского племени, хотя мать и отец относятся, как правило, к разным племенам, что было доказано молекулярно-генетическими исследованиями (Barrett-Lennard, 2000). Кроме того, в неволе были описаны случаи копирования косатками криков из репертуара других особей, что также говорит о способности косаток к вокальному обучению.
11
Согласно классической теории эволюции диалектов у косаток (Ford, 1991;
Miller, Bain 2000), репертуар криков передается только «по вертикали» от
матери к детенышу, а постепенное изменение диалектов происходит из-за
накопления случайных ошибок, возникающих при копировании криков. Таким
образом, чем ближе родство двух племен, то есть чем меньше времени прошло
с момента их разделения, тем больше сходство их диалектов (Ford, 1991).
Косатки северо-восточной части Тихого океана (побережье США и Канады)
образуют ряд нескрещивающихся между собой популяций (Рисунок 1). алеутские
резиденты
Аляски
си
резиденты Аляски
транзитники Западного Берега
северные канадские резиденты
. транзитные южные
- резидентные канадские резиденты
Рисунок 1. Районы обитания различных популяций косаток северо-восточной части Тихого океана.
В нашей работе мы используем акустические записи этих косаток, взятые из библиотек звуков Джона Форда (John K.B. Ford, Nanaimo Pacific Biological Station, ВС, Canada) и Харальда Юрка (Harald Yurk, SMRU Ltd., Vancouver, Canada) с любезного разрешения владельцев. К сожалению, для большинства этих записей оказалось невозможно установить, какие семьи (а в некоторых случаях даже какие племена) присутствовали при записи, поэтому ниже мы приводим репертуары популяций на уровне кланов.
Резидентная (рыбоядная) популяция Аляски встречается в акватории от юго-восточной Аляски до острова Кодьяк (Matkin et al., 2013). Эта популяция состоит из двух акустических кланов AB и AD. Численность популяции составляет более 700 особей (Matkin et al., 2013). Проанализировав около 5 часов записей, мы обновили и дополнили каталог, составленный ранее Харальдом Юрком по меньшему объему материала (Yurk, 2005). Северная канадская резидентная популяция обитает в прибрежных водах Британской Колумбии и юго-восточной Аляски от южной части о-ва Ванкувер до приблизительно 58° с.ш. Эта популяция включает три акустических клана:
12
A, G и R (Ford 1991). Численность популяции составляет чуть более 250 животных (Ford et al. 2000). Проанализировав более 10 часов записей, мы отобрали звуки для дальнейшего количественного анализа. Разделение криков на типы проводили в соответствии с классификацией Форда (Ford, 1991). Южная канадская резидентная популяция населяет прибрежные воды Британской Колумбии и штата Вашингтон. Ключевые местообитания этой популяции находятся в акватории южной части острова Ванкувер, но встречи отмечены от залива Монтерей на юге до острова Хайда-Гуаи на севере. Популяция состоит из одного клана J (Ford 1991). Это самая маленькая из известных рыбоядных популяций - в 2003 году она насчитывала 86 особей (van Ginneken et al. 2005). От косаток этой популяции нам удалось получить лишь 46 минут записей. Разделение криков на типы проводили в соответствии с классификацией Форда (Ford, 1991).
Ареалы рыбоядных популяций северо-восточной Пацифики в значительной степени перекрываются. Ареалы аляскинской и северной популяций перекрываются в акватории юго-восточной Аляски, а северной и южной популяций - в водах острова Ванкувер; несмотря на это, перемешивания и спаривания между особями разных популяций не наблюдается (Ford et al. 2000).
Плотоядные косатки северо-восточной Пацифики также разбиты на несколько популяций. Две самые крупные популяции населяют воды от штата Вашингтон до юго-восточной Аляски (так называемые «транзитники западного берега») и от юго-восточной Аляски до восточных Алеутских островов. Плотоядные косатки изучены хуже, чем рыбоядные, и неясно, являются ли эти популяции полностью репродуктивно изолированными, или между ними происходит перемешивание. В нашей работе мы проанализировали крики канадских косаток из популяций «транзитников западного берега» и «аляскинских транзитников», составив каталоги стереотипных криков. Для этого мы использовали около 3 часов записей канадских и более 6 часов записей аляскинских плотоядных косаток. В российских водах регулярного изучения косаток до начала наших работ не проводилось, а собранная во времена китобойного промысла информация ограничивалась в основном данными по морфологии и исследованием содержимого желудков добытых животных (Томилин, 1957, 1962; Слепцов, 1955; Бетешева, 1961; Иванова, 1961). Более поздние работы (Владимиров, 1993; Шунтов, 1993) были посвящены преимущественно попыткам оценки общей численности косаток.
Наши исследования показали, что в прибрежных водах северо-западной Пацифики (дальневосточное побережье России) также были обнаружены
косатки рыбоядного и плотоядного экотипов (Филатова с соавт., 2013). Основу нашей работы составило исследование диалектов косаток из популяции юго-восточной Камчатки, с которой мы работаем на протяжении более 13 лет (с 2000 года по настоящее время). Общая численность этой популяции составляет, по-видимому, более 650 особей, но численность локального стада Авачинского залива (то есть животных, регулярно из года в год отмечаемых в этом районе) составляет около 300 особей (1укоуюЬ е! а1., 2010). В ходе данной работы мы проанализировали около 90 часов записей косаток этой популяции. Мы составили каталог криков и выделили три клана: Авачинский клан, клан К19 и клан К20.
Таблица 1. Репертуары стереотипных криков племен косаток Авачинского залива. _
Гил \ крика
К1 К2 КЗа КЗЬ К4 KS Кб К7 К8 К10 К11 К12 К15 К16 К17 К19 К 20 К21 К23 К24 К26 К27
кзо К31
кзз
К34 К35 К36 К37 К43 К 44 К57
Авачинский клан
й С
и, 'О т < < ? i
я * I я $ 3 > I i i
i М N S 1Л О сг> ю J2 cvi сп
? -i -ъ г
* 5
> > < <
Клан К19
Клан К20
Гч| О 1Л 00 U1
Ш ^ 01 N к!
го ■—| гл гл ■—|
> > > > >
< < < < <
Авачинский клан
насчитывает не менее 13 племен, в клане К19 мы описали два племени, а в клане К20 - не менее пяти племен. Репертуары криков этих племен приведены в таблице 1. Для семей, часто появляющихся в
исследуемой акватории, количество записей позволило детально описать диалект семьи. В нашей работе мы приводим описание этих семей, их половозрастной состав и сонограммы криков, входящих в диалект каждой семьи.
Глава 4. Акустический репертуар рыбоядных косаток Камчатки: структурная иерархическая классификация
В этой главе мы выделили различные уровни в классификации стереотипных криков рыбоядных косаток восточной Камчатки, чтобы сформировать основу для межпопуляционных сравнений и исследования функций криков. Для категоризации использовано в общей сложности 585 криков камчатских косаток. Выделение разных уровней категорий криков проводили с помощью трех различных методов:
1. Категоризация криков по частотным параметрам.
2. Категоризация криков с помощью «естественных нейронных сетей», т.е. путем ручного разбора независимыми наблюдателями (Janik 1999; Тепу et al. 2001).
3. Автоматическая категоризация частотных контуров посредством искусственных нейронных сетей с использованием динамического временного шкалирования (Deecke et al. 1999).
Категоризация криков по частотным параметрам проводилась на основании сходства частотных параметров криков. Для категоризации криков по этой методике было использовано 102 крика камчатских косаток. Мы выделяли контур основной частоты каждого крика с помощью специального скрипта в среде программирования MATLAB со скважностью 0.01 с, а затем по полученным контурам оценивали частотные параметры крика, которые измерялись также автоматически с помощью других скриптов (см. код скриптов в приложении к полному тексту работы). Основными параметрами, по которым мы классифицировали крики, были абсолютные частотные параметры (основная частота крика в определенных точках или значение медианы частоты по всему контуру), либо относительные частотные параметры (соотношение значений частоты между началом, серединой и концом крика), характеризовавшие обобщенную форму контура крика. Первоначально мы разделили все крики камчатских косаток на типы и подтипы на основании характерных особенностей сонограмм (Филатова и др., 2004), подобно тому как это было сделано в предыдущих работах, описывавших крики косаток (Ford, 1991; Yurk et al., 2002). Затем мы сформировали иерархическую классификацию выделенных нами типов криков на основе их структурных характеристик.
Прежде всего, мы разделили крики камчатских косаток по признаку наличия второй (высокочастотной) составляющей на две большие категории:
монофонические (имеющие одну частотную составляющую) и бифонические (имеющие две частотные составляющие - низкочастотную и высокочастотную).
При категоризации криков по частотным параметрам мы проанализировали соотношение значений частоты между началом, серединой и концом крика, то есть «упрощенный контур» крика. Распределение криков камчатских косаток по формам контуров оказалось не равномерным и различалось между монофоническими и бифоническими криками. Монофонические крики разделились на две основные категории: низкочастотные с восходящим контуром второй половины крика и высокочастотные с нисходящим контуром второй половины крика. При кластеризации монофонических криков по этим двум параметрам на 2 кластера методом к-средних к первому кластеру были отнесены крики типов К1 (все подтипы), К4, К12, К29, КЗО, КЗН, К34, К38, К40 и К46 (Рисунок 2), а ко второму кластеру крики типов КЗа, КЗЬ, К8, К10, К11, К13, К16Ь, КЗ 1 п, КЗ7, К39 и К57 (Рисунок 3). Различия по значениям медианы основной частоты между этими категориями статистически значимы (тест Манна-Уитни, N1 = 22, N2 = 24, и = 0, р < 0.001).
К12
К29
КЗО
КЗН
кНг 10 8 10 8
6 & 6
|р|к 2 2
К38
Рисунок 2. Сонограммы монофонических криков категории М1.
К16Ь
Рисунок 3. Сонограммы монофонических криков категории М2.
Среди бифонических криков по медиане основной частоты низкочастотной составляющей отчетливо выделялись два кластера, между которыми не было промежуточных криков. Крики первого, наиболее многочисленного кластера имеют частоту низкочастотной составляющей (тесИап±80) 785.41±250.55 Гц, а высокочастотной составляющей - 8856.89±1303.65 Гц. В него вошли бифонические крики всех типов, кроме К7 и К21 (Рисунок 4). Крики второго кластера имеют частоту низкочастотной составляющей 1808.93±164.21 Гц, а высокочастотной составляющей - 6487.42±960.65 Гц. К этой категории относятся крики типов К7 (все подтипы) и К21 (все подтипы) (Рисунок 5). Различия по значениям медианы частоты между этими категориями статистически значимы (тест Манна-Уитни, N1 = 46, N2 = 10, низкочастотная составляющая: и = 0, р < 0.001; высокочастотная составляющая: и = 28, р < 0.001).
Категоризация криков с помощью «естественных нейронных сетей» проводилась с использованием независимых наблюдателей (в общей сложности 23 человека), которым предлагалось разделить предложенный набор криков на типы. Для упрощения доступа наблюдателям предлагалось
К31 Филатова, Ольга Александровна
Филатова, Ольга Александровна
-
 доктора биологических наук
доктора биологических наук
-
 Москва, 2014
Москва, 2014
-
 ВАК 03.02.04
ВАК 03.02.04
- Акустический репертуар и вокальные диалекты косаток (Orcinus orca) акватории Восточной Камчатки и сопредельных территорий
- Экологические типы косаток российской части Тихого океана: фотоидентификация и акустический анализ
- Акустический репертуар и вокальные диалекты касаток (Orcinus orca) акватории Восточной Камчатки и сопредельных территорий
- Пространственная структура популяции и поведение рыбоядных косаток восточной Камчатки
- Экология и поведение косатки, Оrcinus orca, Авачинского залива